
«После Освенцима писать стихи невозможно»
Нет, я не в истерике. Просто опустошена. Раздавлена, так, наверное, правильно сказать.
167328 мая 2021
Я сейчас по работе читаю много о преступлениях нацистов. В данный момент одновременно несколько книг. Среди них «Нюрнбергский дневник» психолога Густава Гилберта и вот только что сегодня дочитала автобиографические записки Рудольфа Хёсса. Коменданта Освенцима. До того работавшего в Дахау и Заксенхаузене, а ближе к концу ставшего заместителем главного инспектора концентрационных лагерей.
И, видимо, я не засну сегодня без успокоительного или алкоголя.
Мне было лет 25, когда я прочла очень тогда модную книгу Роберта Харриса «Фатерлянд». Сначала видела экранизацию с Рутгером Хауэром, очень, на мой взгляд, посредственную. И очень, как оказалось, многое смягчившую и спрямившую — хотя литературный источник тоже средних весьма достоинств. С книгой я полезла в ванну, да так там в итоге и осталась на всю ночь. Пока не дочитала. А там в конце на читателя обрушивается скупой отчет некоего чиновника германского МИД Третьего рейха о посещении Аушвица-Биркенау и присутствии при казни в газовой камере. Не то чтобы очень подробный, совершенно неэмоциональный, просто фиксация с отбивками по часам-минутам. Еще на середине я начала плакать, а потом со мной случилась настоящая истерика. Я лежала в пустой ванне и рыдала в голос, выползла оттуда утром и на работу не пошла.
Сегодня, читая Хёсса, я поняла, на каком материале был Харрисом сделан этот кусок («Смерть — мое ремесло» Мерля я не читала, как-то удалось избежать, но сейчас, вероятно, придется). Дочитала. Нет, я не в истерике. Просто опустошена. Раздавлена, так, наверное, правильно сказать. Густав Гилберт утверждал, что все нацисты, с которыми он говорил как эксперт во время Нюрнбергского процесса, — нормальны. Они — нормальны. Не сумасшедшие, не девианты, не маньяки, без патологий. И зря мы, несмотря на слишком подробное знание о том, на что способен человек не в смысле героизма — в смысле низости и мерзости, всё пытаемся решить задачку, чтоб сошлось с ответом: как можно пытать и убивать людей, а потом идти домой, ласкать своих детей и жаловаться жене, что устал на работе.
Уильям Стайрон в «Выборе Софи» говорил, что записки Хёсса должны прочесть все, потому что по сравнению с ними «зло, выведенное в большинстве романов, пьес и кинофильмов, примитивно, если не вообще фальшиво, этакая низкопробная смесь жестокости, выдумки, невропатических ужасов и мелодрамы».
Известен и факт: когда в Нюрнберге советские обвинители стали предоставлять доказательства, судьи заподозрили их в преувеличениях и манипуляции. Судья Паркер не верил, что охранники убивали детей в концлагерях, — невозможно такое, говорил. А потом им показали 45-минутную кинохронику. И этот Паркер от шока слег на три дня, в буквальном смысле, с постели не вставал. А «Нью-Йорк Таймс» признала, что это документальное доказательство развеяло предположения, что зверства немецких оккупантов на Востоке преувеличены.
Так ладно еще судья Паркер, нежный цветочек. (Ох. Простите мне этот сарказм, ну вот что я злюсь, а, ну ведь нормально-то для нормального человека как раз не поверить в подобное, потому что сопротивляются же ум и душа!) А ведь есть же отличный практически поминутный репортаж Гилберта о том, как сами обвиняемые отреагировали на фильм о концлагерях:
«Фриче… бледен и сидит, застыв от ужаса, когда на экране появляются кадры, где заключенных сжигают заживо в каком-то сарае… Кейтель отирает вспотевший лоб, снимает наушники… Нейрат опустил голову, на экран не смотрит… Функ, закрыв глаза, казалось, отдался во власть своих мук, время от времени потряхивает головой… Риббентроп зажмуривается, смотрит в сторону… Франк, судорожно сглотнув, пытается сдержать подступившие слезы… Геринг оперся на ограждение скамьи подсудимых, он с сонным видом лишь изредка поглядывает на экран… Штрейхер продолжает смотреть, он сидит неподвижно, как изваяние, лишь время от времени мигая… Фрик трясет головой, когда на экране появляются кадры «насильственной смерти»… Розенберг беспокойно ерзает на своем месте, иногда бросает на экран быстрый взгляд исподлобья, опускает голову, снова поднимает взор, чтобы проверить реакцию остальных… Зейсс-Инкварт принимает все стоически… Шпеер сидит с убитым видом, с трудом сглатывая… Защитники негромко произносят по ходу фильма: «Боже Великий — ужасно!». Рёдер, оцепенев, смотрит на экран… Папен обхватил голову руками, сидит, глядя в пол, до сих пор он пока что не позволил себе взглянуть на экран… Гесс растерянно глядит перед собой… на экране горы трупов в трудовых лагерях… Ширах внимательно вглядывается в происходящее на экране, тяжело дыша… Геринг с мрачным видом сидит, опершись на локоть… Дёниц сидит, опустив голову, уже не глядя на экран… Заукель поеживается при виде печи крематория в Бухенвальде… когда показывают абажур из человеческой кожи. Штрейхер произносит: «Не верю я в это!»… Адвокаты издают стоны… Теперь Дахау… Шахт продолжает игнорировать экран… Дёниц сидит, обхватив голову руками… Опустил голову и Кейтель… Фрик недоверчиво качает головой, когда женщина-врач начинает описывать эксперименты над женщинами-заключенными в лагере Берген-Бельзен… Риббентроп, поджав губы, с горящими от волнения глазами смотрит в сторону… Функ горько рыдает при виде обнаженных женских трупов, сбрасываемых в яму, невольно прижимает руки ко рту… Кейтель и Риббентроп поднимают взор на экран при упоминании бульдозера, сгребающего трупы, просмотрев эти кадры, они опускают головы… Штрейхер впервые обнаруживает признаки беспокойства… Конец фильма».
И вот я читала сегодня то, что написал Хёсс. Там в предисловии (очень хорошем) Мартин Брозат в частности отмечает: «...совершенно очевидно, — это явствует из сверки и пересмотра показаний и записей Гёсса, — что они ни в коем случае не являются продуктом тщеславия. Несмотря на множество перспективных искажений и обилие ретуши, эти записи потрясают своей бухгалтерской сухостью и деловитостью. (...) Безотказно функционировавший комендант Освенцима проявил себя и как образцовый подследственный, который не только аккуратно раздавал знания о концлагере и об уничтожении евреев, но и стремился также облегчить работу тюремного психиатра, ради чего он написал подробный отчет о себе самом, о своей жизни и о своей, насколько он ее понимал, «душе». Такой контекст объясняет и странности поведения, еще более явно запечатленные в автобиографии Гёсса: усердно-торопливая добросовестность человека, признающего какой-либо авторитет лишь в службе, исполняющего свои обязанности, будь он палач либо арестант, лишь на вторых ролях, всегда отрекавшегося от своей личности, и в форме автобиографии услужливо предавшего свое «Я», свое ужасающе пустое «Я» суду — ради того, чтобы послужить делу".
Временами из малодушия я перепрыгивала взглядом через фразу, а то и абзац, но оттуда все равно выпрыгивали слова и сходу врезались в память. И я из последних сил старалась отключить в себе какую-то кнопку, отвечающую за эмоции, запретить себе пропускать через себя то, что вижу.
Цитировать описанный им обыденный кошмар не буду — нельзя, не надо, всем и так тяжко сейчас, чтобы еще и это.
Но процитирую другое — я прямо помечала себе эти фрагменты.
Меня поразили больше всего две вещи.
21. Он пишет о том, что делал, буквально в жанре производственного романа. Как будто о великой стройке... О глупых начальниках, не дающих нормально, понимаешь, работать. О глупых подчиненных, не умеющих толком выполнять распоряжения. О бюрократах, бумажной волоките и административно-хозяйственных проблемах. И — 2. Он абсолютно нормален. Он всё понимал. Вообще всё. Они все всё знали. Он детально, очень подробно, с примерами, описывает национальные группы заключенных — поляков, русских, цыган, евреев, «цветовые" группы — уголовных, гомосексуалистов, политических, верующих, особенности поведения у мужчин и женщин...и у детей... Что для них характерно, какие они, через что проходили на его глазах. И открыто говорит о том, что нет, вы не думайте, не оставался равнодушным, видел в них людей, живые души, но что поделаешь — нельзя было по-другому.
Я действительно не знаю, когда это осмыслю и осмыслю ли вообще когда-нибудь.
«Каким образом я смог спокойно отдать приказ стрелять, мне самому непонятно и сегодня. Трое стрелявших не знали, кого они должны убить, и хорошо, что не знали, не то их стало бы трясти. Сам я от волнения едва смог поднести свой пистолет к виску для контрольного выстрела. Но всё же я смог взять себя в руки, чтобы присутствующим ничего не бросилось в глаза. Этот расстрел всегда стоит у меня перед глазами как напоминание о постоянной необходимости справляться с самим собой и проявлять непреклонную твердость».
«С самого начала мне стало ясно, что из Освенцима что-то полезное может получиться лишь благодаря неустанной упорной работе всех — от коменданта до последнего заключённого. Но для того, чтобы иметь возможность впрячь в работу всех, мне пришлось покончить с устоявшимися традициями концлагерей. Требуя от подчинённых высшего напряжения, я должен был показывать в этом пример. Когда будили рядового эсэсовца, я вставал тоже. Прежде, чем начиналась его служба, я проходил рядом, а уходил позже. Редкая ночь в Освенциме обходилась без того, чтобы мне не позвонили с сообщением о чрезвычайном происшествии. Если я хотел получить от заключённых хорошие результаты, приходилось, — в отличие от норм, сложившихся в концлагерях, — лучше с ними обращаться. Под этим я понимал также привлечение заключённых к охотно выполняемой, созидательной работе. При этих условиях я мог также требовать от заключённых исключительных результатов работы. С этими факторами я считался твердо и определенно.
Однако уже в первые месяцы, можно даже сказать, в первые недели я с горечью убедился, что все благие намерения и планы разбились об ограниченность и упрямство большей части моих подчинённых».
«Уже в Ораниенбурге, когда я был в Инспекции КЛ, цыгане, знавшие меня по Освенциму, заговаривали со мной и спрашивали о членах своих кланов. В том числе и о тех, которые уже давно были удушены газом. Мне всегда было трудно давать им уклончивые ответы — как раз из-за их огромной доверчивости. Хотя в Освенциме из-за них я имел много неприятностей, они всё же были моими любимыми заключенными — если так вообще можно выразиться».
«Я хотел бы здесь подчеркнуть, что лично не испытывал к евреям ненависти, хотя они были врагами нашего народа. Они были для меня такими же заключенными, как и все остальные, и обращаться с ними следовало так же. В этом я никогда не делал различий. Чувство ненависти вообще мне несвойственно».
«Я всё хорошо видел, порой слишком хорошо, но я ничего не мог поделать. Никакие катастрофы не могли остановить меня на этом пути. Все соображения теряли смысл ввиду конечной цели: мы должны выиграть войну. Такой виделась мне тогда моя задача. Отправиться на фронт я не мог, ради фронта я должен был делать на родине самые страшные вещи».
«Освенцим стал величайшей фабрикой смерти всех времён. Когда летом 1941 РФСС лично отдал мне приказ подготовить в Освенциме место для массовых уничтожений и провести такое уничтожение, я не имел ни малейшего представления об их масштабах и последствиях. Пожалуй, этот приказ содержал в себе нечто необычное, нечто чудовищное. Но мотивы такого приказа казались мне правильными. Я тогда не рассуждал — мне был отдан приказ — я должен был его выполнять. Было необходимым это массовое уничтожение евреев или нет, я рассуждать не мог, для этого тогда ещё не пришло время. Раз сам фюрер распорядился об «окончательном решении еврейского вопроса», старые национал-социалисты не смели раздумывать, тем более офицеры СС. «Фюрер приказал, мы исполняем» — это ни в коем случае не было для нас фразой, поговоркой. Принимать это изречение приходилось на полном серьёзе. С момента моего ареста мне постоянного говорят, что я мог уклониться от исполнения этого приказа, что я мог бы пристрелить Гиммлера. Не думаю, что хотя бы одному из тысяч офицеров СС могла прийти в голову такая мысль. Это было бы попросту невозможно. Конечно, многих эсэсовцев раздражали приказы рейхсфюрера, они ругались, но исполняли каждый из них. РФСС причинил много страданий многим офицерам СС, но я твёрдо верю, что ни один из них не решился бы не только посягнуть на него, но даже втайне подумать об этом. Его личность в должности рейхсфюрера СС была неприкосновенной. Его приказы от имени фюрера были священны. Их нельзя было обдумывать, обсуждать, толковать. Их следовало выполнять с предельным упорством, вплоть до принесения в жертву собственной жизни».
«Мне приказали, я должен был выполнить приказ. Должен признаться, что меня это удушение газом успокоило, поскольку вскоре предвиделось начало массового уничтожения евреев, но ни Эйхман, ни я не имели представления о способах убийства ожидавшихся масс. Наверное, с помощью газа, но как его использовать, и какого именно газа? А теперь мы открыли и газ, и способ. Я всегда боялся расстрелов, когда думал о массах, о женщинах и детях. Я уже отдал много приказов об экзекуциях, о групповых расстрелах, исходивших от РФСС или РСХА. Но теперь я успокоился: все мы будем избавлены от кровавых бань, да и жертвы до последнего момента будут испытывать щадящее обращение».
3«Как-то раз одна женщина приблизилась ко мне во время шествия в камеру и прошептала мне, показывая на четверых детей, которые послушно держались за руки, поддерживая самого маленького, чтобы он не споткнулся на неровной земле: «Как же вы сможете убить этих прекрасных, милых детей? Неужели у вас нет сердца?» А один старик по пути в камеру прошептал мне: «Германия жестоко поплатится за это массовое убийство евреев».
(я не могу цитировать. он очень подробно описывает всё о казнях в газовых камерах. людей, их поведение, конкретные случаи и примеры. Подробно — как естествоиспытатель — останавливается на поведении работников зондеркоманд)
«Таких душераздирающих сцен, которые не оставляли спокойными никого из присутствующих, было множество.
Всех, кто имел отношение к этой чудовищной «работе», приставленных к этой «службе», а также меня самого, эти процессы заставляли крепко задуматься, оставляли в душах глубокие следы. Большинство причастных во время моих обходов мест уничтожения зачастую подходили ко мне, чтобы поделиться своим угнетённым состоянием и успокоиться тем, что я мог бы им сказать. В их доверительных рассказах я постоянно слышал вопросы: «В самом ли деле необходимо то, что мы должны делать? В самом ли деле нужно уничтожать сотни тысяч женщин и детей?» И я, бесчисленное количество раз задававший себе те же вопросы, был вынужден отделываться от них приказом фюрера и тем утешать их. Мне приходилось говорить им, что еврейство надо уничтожить во имя Германии, с тем, чтобы навсегда избавить наших потомков от заклятых врагов.
Разумеется, для всех нас приказы фюрера подлежали неукоснительному исполнению, тем более для СС. И всё же каждого терзали сомнения. Сам я ни в коем случае не смел обнаруживать свои сомнения. Чтобы поддержать психическую стойкость сослуживцев, мне при исполнении этого чудовищно жестокого приказа приходилось вести себя так, как будто я был сделан из камня. Все смотрели на меня: какое впечатление производят на меня сцены, подобные описанным выше? Как я на них реагирую? Сверх того я убедился в том, что каждое моё слово подробно обсуждается. Мне приходилось изо всех сил держать себя в руках, чтобы не проявить волнение и подавленность от того, что я переживал. Я должен был выглядеть хладнокровным и бессердечным при сценах, от которых щемило сердца у всех, сохранивших способность чувствовать. Я даже не мог отвернуться, когда меня охватывали слишком человеческие порывы. Мне приходилось внешне спокойно наблюдать за тем, как в газовую камеру шли матери со смеющимися или плачущими детьми.
Мне тогда хотелось от жалости провалиться сквозь землю, но я не смел проявлять свои чувства. Я должен был спокойно смотреть на всё эти сцены. Я должен был наблюдать в глазок газовой камеры за ужасами смерти, потому что на этом настаивали врачи. Мне приходилось всё это делать, потому что на меня все смотрели, потому что я должен был всем показывать, что я не только отдаю приказы и делаю распоряжения, но готов и сам делать всё, к чему принуждаю своих подчинённых».
«В Освенциме я воистину не смог бы пожаловаться на скуку. Если какое-нибудь событие приводило меня в смятение, мне нельзя было пойти домой, к своей семье. Тогда я садился на лошадь и на скаку избавлялся от жутких картин. Нередко я приходил ночью в конюшню и там, среди своих любимцев, находил успокоение. Часто случалось, что дома мне вдруг вспоминалась какая-нибудь сцена из процесса уничтожения. Тогда мне надо было выйти. Я больше не мог оставаться в уютном кругу своей семьи. Часто, когда я видел наших самозабвенно игравших детей, или переполненную счастьем жену с малышом, мне приходила в голову мысль: долго ли продлится ваше счастье? Жена не могла объяснить моё мрачное настроение, считала, что оно вызвано работой. Когда по ночам я находился возле прибывшего транспорта, возле газовых камер, возле огня, я старался думать о жене и детях, никак не связывая их с процессом ликвидации. Женатые, находившиеся возле крематория, или дежурившие у газовых камер, часто говорили мне [о том же самом]. При виде детей с женщинами, шагавших к газовой камере, я невольно думал о собственной семье. С начала массовых ликвидаций в Освенциме я не бывал счастлив. Я был недоволен самим собой. А тут ещё главное задание, бесконечная работа, и сотрудники, на которых нельзя было положиться. Да ещё начальство, которое не понимало меня и не желало меня выслушивать. Воистину безрадостное и тягостное положение. И при этом все в Освенциме считали, что у коменданта прекрасная жизнь.
Да, моей семье жилось в Освенциме хорошо. Каждое желание, возникавшее у моей жены, у моих детей, исполнялось. Дети могли жить свободно и безмятежно. У жены был настоящий цветочный рай. Заключённые делали всё, чтобы сделать приятное моей жене и детям, чтобы оказать им любезность».
«РФСС посылал в Освенцим разных функционеров партии и СС, чтобы они сами увидели, как уничтожают евреев. Все при этом получали глубокие впечатления. Некоторые из тех, кто прежде разглагольствовали о необходимости такого уничтожения, при виде «окончательного решения еврейского вопроса» теряли дар речи. Меня постоянно спрашивали, как я и мои люди могут быть свидетелями такого, как мы всё это способны выносить. На это я всегда отвечал, что все человеческие порывы должны подавляться и уступать место железной решимости, с который следует выполнять приказы фюрера. Каждый из этих господ заявлял, что не желал бы получить такое задание».
«Каким образом стали возможны ужасы концентрационных лагерей, я уже достаточно сообщил раньше, а также в описаниях отдельных персон. Лично я их никогда не одобрял. Никогда я не обращался жестоко ни с одним заключённым, тем более ни одного из них не убил. Я также никогда не терпел жестокого обращения с ними со стороны своих подчинённых. Меня мороз по коже продирает, когда сейчас, в ходе следствия, я слышу о чудовищных истязаниях в Освенциме и в других лагерях. Конечно, я знал, что в Освенциме заключённые подвергались жестокому обращению со стороны СС, гражданских служащих, и не меньше того — со стороны своих солагерников. Против этого я выступал всеми имевшимися в моём распоряжении силами и средствами. Я не мог этому воспрепятствовать».
«Общественность может видеть во мне кровожадного зверя, садиста, убийцу миллионов — ведь широкие массы никак не смогут представить коменданта Освенцима другим. Но никогда они не поймут, что он тоже имел сердце, что он не был плохим».
Это да. Никогда они не поймут, что он тоже имел сердце. Ну, вот тот, кто прославился среди прочего двумя усовершенствованиями - использованием циклона Б и новыми газовыми камерами с разовой пропускной способностью в 2 тысячи человек (выиграл соревнование с Треблинкой — там всего по двести человек за раз получалось).
Что мы, так и не сумевшие понять, что он не был плохим, знаем еще. Что его повесили. В правильном месте — рядом с крематорием лагеря Аушвиц-1.
4Что у него было пятеро детей, которые, став взрослыми, отказывались осуждать своего отца. Ух, как он в конце записок рассказывает, как увозил семью от наступающих «красных зверюг», спасал жену и детей. Ух, как живописует ужасы, которых они насмотрелись. Ух, как плачет, наверное, над страницами, где пишет, что они все хотели отравиться, но не успели, а у него в момент ареста как назло ампула с ядом разбилась. И плачет, плачет, причитает — что, мол, с семьей моей будет, на себя мне плевать, но жена, но дети, их-то за что?!
Несколькими страницами выше, то есть, пишет о женщинах, умолявших не трогать их детей, умолявших вглядеться в их детей, — а несколькими страницами ниже — о своих кровиночках невинных. И все это умещается в одной голове. Даже не в смысле причинно-следственной связи. А вообще умещается.
Еще мы знаем последнюю недавнюю громкую сплетню. О его внуке Райнере, в 16 лет порвавшем с семьёй и папашей-деспотом и с тех пор «выступавшем с открытым осуждением своего деда, а также тех родственников, которые пытаются его оправдать». Правда, в 2020 году его судили за мошенничество и приговорили к восьми месяцам тюремного заключения за использование семейного прошлого для незаконного личного обогащения (и до этого он 13 раз в общей сложности на этом погорал уже, 200 тысяч евро выманил у людей под съемки фильма о Холокосте). Там яркая история, что и говорить. Главное, сделал же еще, паршивец, татуировку звезды Давида на груди.
Все молодцы, в общем. Порода.
Но на этот счет меня уже следующая книга дожидается: «Дети Третьего рейха» Татьяны Фрейденссон. Там как раз о потомках.
Прочту — расскажу.
Сегодня тот самый день, когда я на какое-то время (хорошо бы не очень надолго) полностью проникнута мыслью Теодора Адорно — что после Освенцима писать стихи невозможно.
Оригинал в Facebook автора.
Фото:Facebook
Яндекс.Директ ВОмске
Скоро
06.07.2023
Довольны ли вы транспортной реформой?
Уже проголосовало 102 человека
22.06.2023
Удастся ли мэру Шелесту увеличить процент от собранных налогов, остающийся в бюджете Омска?
Уже проголосовало 95 человек
Самое читаемое
Что им будет стоить детский сад построить?
149317 апреля 2024
Как перевести деньги из России за границу
95917 апреля 2024
Выбор редакции
82929 марта 2024
Памяти «Последнего из могикан»...
146017 марта 2024
«Исход ты сам предугадал…» (Письмо из Сегодня)
1689129 февраля 2024
69984
Записи автора
196520 июня 2021
Барто воссоединила почти тысячу семей
129921 февраля 2021
А вы знали о Василии Меркурьеве?
233930 сентября 2020
— попутчица
— депутат Государственной Думы
— омичка
Яндекс.Директ ВОмске




















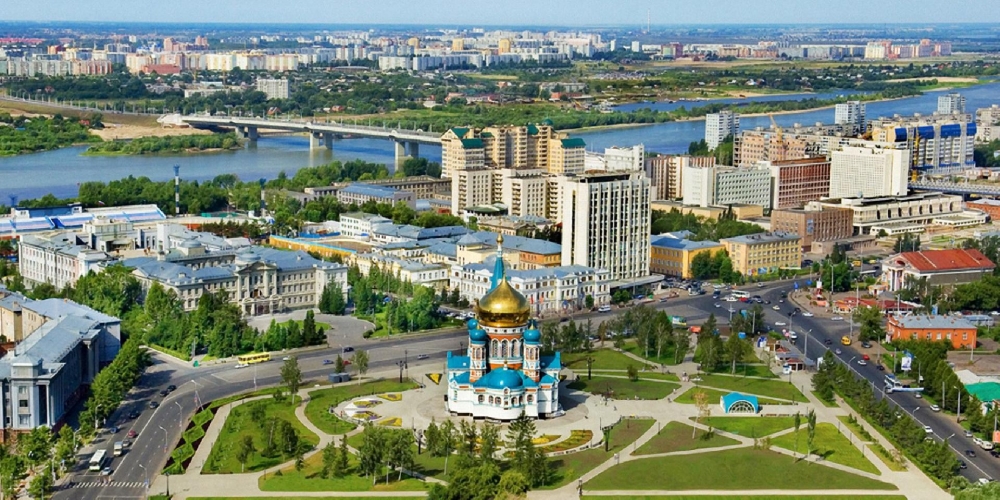










Комментарии