
НГУ (часть 1)
Для меня всё началось неожиданно в июне 1959.
303410 августа 2017
Более чем за год до этого я узнала о том, что в бору на берегу новорожденного Обского моря строится научный городок, Институт ядерной физики, что вскоре там будет и университет. Места мне знакомы: станции электрички (тогда её называли передачей) Второй разъезд и Речкуновка были исходным пунктом многих из воскресных прогулок с родителями.
Дома о строящемся университете говорили не раз, перед выпускными экзаменами высказывались сожаления, что университет откроется только через год. Мне хотелось поехать учиться в Физтех, на физическую химию, но до смешного ничтожные обстоятельства помешали подать документы вовремя (там вступительные экзамены начинались 1 июля, а не с 1 августа, как всюду тогда). Поступила на отделение строительных материалов архитектурного факультета Сибстрина – самое «химическое», что было в Новосибирске, и весёлая студенческая жизнь сразу же поглотила меня. Учиться было легко и интересно, в группу я попала очень дружную, вечера и вечеринки, походы в театр зимой и пикники после экзаменов в Кудряшовском бору; жили мы тогда рядом с институтом, за куртиной сибирки из окна моей с бабушкой комнаты видны окна общежития, и хорошо помню, как весной вечером прямо из облака яблоневого цвета возникают однокурсники, и мы долго беседуем через окно; то с задачами по сопромату или начерталке приходит кто-нибудь, то просто поболтать; а зимой бросали в окно снежком, чтоб убедиться, что я дома, прежде чем обогнуть дом и зайти. Жизнь была в высшей степени увлекательна, о Физтехе я и думать забыла.
1В июньскую сессию, перед последним экзаменом меня от группы отрядили за билетами в театр, не помню уж кто тогда приезжал на гастроли, но очередь за билетами была длиннющая, хотя касса открывалась только через несколько часов. Заняв очередь, я пошла прогуляться и у здания президиума СОАН (тогда ещё называли его по-прежнему – филиал) неожиданно попала в поток куда-то спешивших моих сверстников; поняв, что идут на собрание желающих поступить в НГУ, полюбопытствовала зайти тоже. Зал был битком набит, я пристроилась у самой двери; народу всё прибывало. Возле меня плотный лысоватый господин (слово это было не в ходу в те времена, конечно, но более обычное тогда – товарищ – как-то не очень подходит) пытался протиснуться вперёд, но, не преуспев в этом, спросил листок бумаги, нацарапал что-то на нём и попросил передать в президиум. Листок отправился в путешествие. Мне видны были только макушки сидящих в президиуме на сцене, и то если приподняться на цыпочки, над морем затылков лишь кое-где возвышался кто-нибудь забравшийся на приступку к колонне или ещё на что-нибудь; возле одной из колонн на таком небольшом возвышении стояла девушка с греческим профилем, голова оттянута назад, будто под тяжестью толстенной косы, уложенной на затылке, и сама она устремлена вперёд – как фигура на носу корабля. Зал гудел, но почему-то не начинали. Вдруг кто-то в президиуме встал с запиской в руке: «Андрей Михайлович Будкер не может пройти от дверей зала сюда и открыть собрание. Товарищи, давайте потеснимся, попробуем создать хотя бы узенький проход».
Смех, движение в зале, и лысина моего соседа начала медленно продвигаться вперёд и вскоре исчезла из поля зрения: ряды затылков за нею вновь плотно смыкались. Наконец он добрался до подиума и заговорил. Он говорил о грандиозном плане создания небывалого города науки в Сибири, институтов, университета, который будет непохож на все доселе существовавшие, подобен разве что Физтеху, где учёба будет неотделима от научной работы, и студенты примут участие в научных исследованиях уже на младших курсах, работая в самых современных лабораториях, на передовом фронте естествознания; об особых требованиях, которые будут предъявляться к студентам. Я не помню всей речи, но помню необыкновенное вдохновение, с которым говорил оратор, и ответное воодушевление слушателей, возраставшее с каждым словом Андрея Михайловича, единодушие, захваченность общим порывом, – мне кажется – все в эти минуты думали одно, и даже пришедшие из любопытства, как я, уже не смогут вернуться к прежней жизни, не попытаться стать частью необыкновенного сообщества – НГУ.
И вот я – студентка первого курса факультета естественных наук (пока единственного), специальность – химия, а ещё есть физики, математики, геологи и механики.
Университетская жизнь началось с колхоза, в Коченёвском районе, куда на уборочную отправили поступивших (кроме тех, кто остался в городке достраивать общежитие и школу).

В колхоз я попала с физиками – Таня Вильгельми, Надя Елаева, Толя Иванов, Наташа Куратова, Коля Диканский, Лев Чопык (механик), Люба Гумиленко, Валера Кузьмин, Витя Мамонтов; но Гора Волгина и Тома Поспелова – химики, как и я. Обширна география, откуда собрались, – Дальний Восток, Бурятия, Восточная и Западная Сибирь, Средняя Азия, – и очень разные пути сюда, не только школа или техникум, разное: кто-то уже учился и работал, Тома вот – окончила медучилище, работала медсестрой, Чопык после курса или двух какого-то столичного вуза, у Горы позади – курс на философском отделении МГУ, но особенно таинственна биография немногословного и мрачноватого Вити Мамонтова: уже одни имена медвежьих углов Восточной Сибири, где он побывал, впечатлили; он сирота, с малых лет жил сам, работал в геологических партиях; экзамены за среднюю школу сдал экстерном, когда захотел поступить в университет, он один из немногих, кто набрал 15 баллов на вступительных экзаменах (баллы исчислялись по трём основным экзаменам – математике письменной и устной и физике, литература и иностранный язык в счёт не шли, их достаточно было сдать на тройки) – всё это мне необыкновенно интересно, о каждом из сокурсников хочется знать больше – и узнаю длинными дождливыми днями, когда не выходим на работу, и на перекурах у края картофельного поля в золотые бабьелетние дни, с сияющими вдали берёзовыми колками.

Главное чувство – возникающего радостного «мы» и чего-то особенного в нём, отличного от прежде испытанного; оно в ощущении большой общей цели; ещё чувство, что это наше «мы» – собрание индивидуальностей... тут не обойдёшься без пояснений. Вспомнила горячие споры с сибстриновской подружкой, меня возмущала её наклонность делить на категории – вот деревенские, вот закаменские городские, а вот мы, выпускники лучших центральных школ города (я – закаменская, но в качестве исключения в её «мы» принята). Но как ни горячо я возражала, а всё же должна была признать, что почти все самые интересные мне собеседники – из состава её «мы», и её разделение на категории некий статистический предсказательный смысл имеет. Но вот здесь – ничего подобного. «Мы» сложено из индивидуумов, по отношению к которым вся эта пошловатая статистика не работает. Чуть ли не в первый день помню вопрос Тани Ромашиной Вите, читал ли он «Мудрость чудака» (недавно опубликованный тогда в Иностранке роман Фейхтвангера о Руссо), и Витин без энтузиазма ответ: «Читал... лучше уж «Исповедь» прочесть». И выясняется, что он читал и Руссо, и Вольтера, и Гегеля, и Канта, и Шопенгауэра, хотя говорит об этом неохотно.
Но так и не объяснила это "особенное". Отчасти оно – в ощущении свободы от казавшегося предназначенным.
В колхозе были недолго,не два с лишним месяца, до постоянного снега, как в Сибстрине, – в сентябре уже вернулись; городок (горстка только что построенных жилых домов, расположенных в вольном причудливом порядке, а не скучными городскими кварталами, через сосновую рощицу от общежития – институт гидродинамики, в котором временно приютились и другие институты, недостроенная громада Института ядерной физики высится чуть поодаль, рядом почти достроенная – геологии) – в обрамлении осенних берёз и осин с поредевшей, но не полностью облетевшей листвой. Занятия – в школе, нижний этаж которой – собственно школа; детей пока немного в городке, но это ненадолго, очень скоро наполнится он ими до краёв, полнее, чем любой новосибирский район, детские садики уже строятся. Но в это будущее мы не заглядываем, волнует ближнее – первая сессия: нас предупредили, что набрали с запасом и отсев будет очень большой, не как в обычном вузе; на нашем этаже самая большая комната – «кандидатов», то есть принятых условно, но и это – не главное, главное неуловимо, волнующе. Я, наверное, больше других чувствую странность отсутствия старшекурсников, после Сибстрина, старого вуза с устоявшимися учреждениями и традициями, где новички с первых дней окунались в поток до них установившейся студенческой жизни. А мы – сами устроители традиций. Островком среди сибирских лесов наш в лесах строительных городок, – но возле только что построенного дома уже аккуратный газон (альпийские газоны, никогда не виданные, эшшольция, восточные маки, васильки, поповник буйным ярким колеблющимся от весеннего ветра ковром распустятся весной – дуновение дальнего, просторно-горнего, особенно если вспомнить тогдашние городские клумбы), хотя будущая главная улица (название-то какое – Морской проспект!) непроходима после дождей. Наше общежитие – на углу Морского и Обводной, уводящей в сторону института геологии и на полпути круто поворачивающей к сосновым посадкам, где юные сосенки пока что едва ли выше нас.

Ни одного рейсового автобуса в город, надо было спускаться к Бердскому шоссе, чтоб «поймать» междугородний Бердск – Новосибирск, или голосовать на шоссе, или пробраться в служебный – несколько рейсов в день, но в него студентов пускают только если останется место (не сидячее, конечно), и, помнится, преподавательница истории партии переписывала студентов, едущих в город этим автобусом: она очень серьёзно отнеслась к идее «погружения в науку, отрыва от светской и вообще городской расслабляющей суеты», в её представлении осуществляться это должно было примерно как в колониях для малолетних преступников, запретом выхода на волю, за пределы зоны, – но над нею посмеивались, сколько она ни старалось придать важности своим угрозам. Запомнилось это по резкому контрасту с духом вольности, которым проникнуто было всё вокруг, ощущаемом в разговорах, шутках, отсутствии обычной вузовской дисциплины – никакого учёта посещаемости; мне, химику, можно было ходить на лекции, читаемые физикам и математикам – слушай что хочешь, по собственному усмотрению. Весной Сабинин в хорошую погоду уводил свой математический семинар куда-нибудь на лесную лужайку.

Но до весны ещё далеко, пока – первые лекции. Будкер читает общую физику в актовом зале. Места занимают в шесть утра – позже ни одного не останется, спозаранку кто-то один из комнаты занимает на всех, пришедшие незадолго – за полчаса до предполагаемого начала лекци – пробираются на занятые для них места по партам, перешагивая через головы сидящих, проходов не существует, многие слушатели пришли со своими стульями и заняли проходы. Будкер должен был прилететь из Москвы рано утром и к началу лекции добраться в городок. Приходят с сообщением, что самолёт опоздал, только что приземлился, а до городка из Толмачёва (по недостроенной бетонке) не так-то быстро, нам предлагают разойтись, но почти никто не уходит. Более чем часовое ожидание – и вот наконец входит Будкер, всеобщее ликование – и лекция начинается. В недели его приезда расписание лекций менялось, физика занимала больше места, чем в регулярном расписании, а в отсутствие Андрея Михайловича читал Борис Валерьянович Чириков, и хорошо читал, хотя столь же многолюдных паломничеств на его лекции не было.

Физику нам читали не считаясь с тем, что математики, необходимой для понимания читаемого, мы ещё не проходили. Иногда делались самые краткие экскурсы в математику, несколько слов в пояснение написанных дифференциальных уравнений тем, кто прежде и слыхом не слыхивал, что такое производная, – и всё; книг, соответствующих курсу, не было, то есть это было – как учить плавать, бросая совершенно не умеющих в воду. (Тем, кто младше нас, такое сравнение может показаться преувеличением, но надо было знать тогдашнюю школьную программу по математике; по-своему неплохая, к высшей математике она не приближала так, как позднейшие программы даже обычных школ, не говоря уж о матклассах, их тогда ещё не существовало, в Сибири по крайней мере, как и физматшкол, олимпиад и т.п., всё это началось чуть позже именно в городке, а тогда мало кто из нас в школе видел что-нибудь посерьёзней задачника Рыбкина). Лекции не кончались со звонком, лишь малая часть слушателей расходилась сразу, остальные собирались плотным кольцом у доски, где лектор отвечал на вопросы, сразу туда и не пробраться было, лишь медленно кольцо редело и оставались только два-три самых упорных вопрошателя, среди них неизменно Аркаша Вайнштейн. Если в том же зале должна была состояться следующая лекция, ей не дано было начаться во-время, а когда зал следующую пару был не занят, диспут мог продолжаться очень долго. Эта часть бывала не менее интересна, чем сама лекция, и не только ответами лектора, но и самими вопросами.

Вечерами пытались вместе понять не понятое на лекциях. Вокруг берущихся объяснять скопление жаждущих объяснений, обычная картина: оба подоконника в концах длинного общежитского коридора заняты объясняющими, возле каждого небольшая толпа. Допоздна горят и окна «наших» двух верхних этажей школьного здания, все классы заняты, ведь любителям заниматься в одиночку нелегко найти тихое местечко в общежитии.
К концу семестра заметно изменяется «рейтинг» любителей объяснять: вначале за это охотно брались те, кто уже поучился в других вузах и был слегка оснащён знанием матанализа и общей физики, но очень скоро этого стало недостаточно, выявлены были и приобрели популярность способные решить нетривиальную задачу (а тривиальных нам почти и не давали, молодые выпускники физтеха, которые вели у нас семинары, упорно ориентировались на школу гениев, не всегда считаясь с реальностью).
Книг, соответствующих большинству читаемых нам курсов, не было. Раздобывание тех немногих, на которые лекторы давали иногда ссылки, было делом нелёгким, лишь малую часть можно было разыскать в библиотеке. Проходил слух, что где-то в Дзержинском или Заельцовском районе в книжном видели что-то – и туда снаряжалась экспедиция.
Помню, как объездила чуть ли не все букинистические магазины Новосибирска (собственно букинистических почти и не было тогда, но были отделы в некоторых книжных) в поисках «Теории кислот и оснований» Шатенштейна, так и не нашла ни в одном и следующим летом прочла эту нахваленную кем-то книгу в Одесской публичной библиотеке, но почти не нашла в ней для себя нового: к тому времени удалось разыскать кое-что в разных монографиях на английском, доступных в городковской библиотеке; именно с этого началось моё чтение на английском, сначала с большим трудом, но очень скоро пошло с лёгкостью.
О к о н ч а н и е с л е д у е т .
Оригинал в ЖЖ автора
Яндекс.Директ ВОмске
13.01.2025
Вы довольны организацией движения транспорта в связи с ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ?
Уже проголосовало 44 человека
06.07.2023
Довольны ли вы транспортной реформой?
Уже проголосовало 189 человек
Самое читаемое
Выбор редакции
43603 февраля 2026
386731516
Родилась в 1940 году в Омске.
Училась в школе 18 города Омска. В 1955 году переехала с родителями в Новосибирск. В 1959 году поступила во вновь открывшийся Новосибирский государственный университет (НГУ).
По окончании университета работала в Институте органической химии и Институте катализа СоАН СССР, а также в редакциях издательства СОАН СССР. С 1990 года работала в Лаборатории молекулярной биологии Медицинского центра Университета Массачусетса.
В настоящее время — на пенсии, живет в городе Линне, недалеко от Бостона (США).
Записи автора
218309 мая 2018
186226 декабря 2017
265207 октября 2017
4448406 сентября 2017
3178328 августа 2017
256524 августа 2017
280412 августа 2017
288205 августа 2017
— Психолог
— депутат Государственной Думы
— Коуч, психолог
Яндекс.Директ ВОмске



















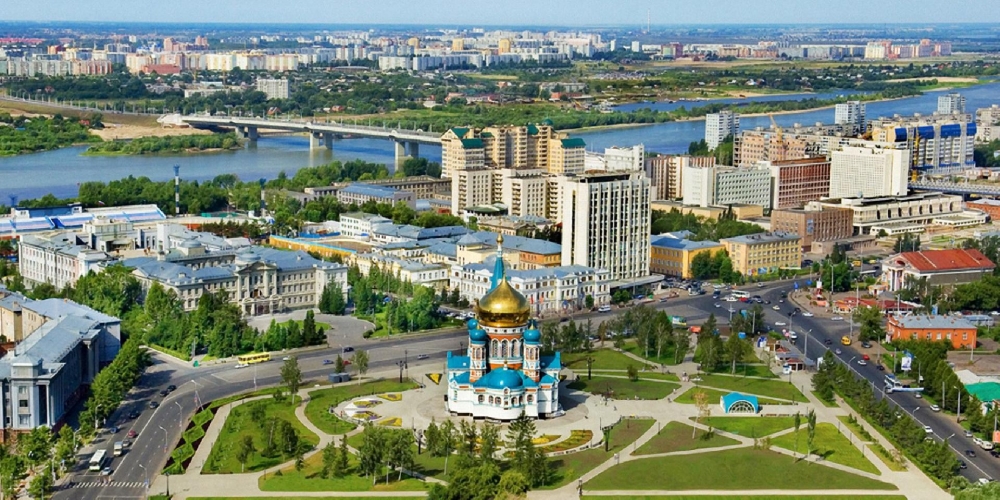










Комментарии