
Меня зовут осенние леса
Никакое из «лесных воспоминаний» не имеет той притягательной силы, никуда так не тянет в осенние дни, как к берёзам Западной Сибири.
4448406 сентября 2017
Сибаку окружали поля и была недалеко берёзовая роща, любимое место наших прогулок. Но роща не лес, «лес» казался чем-то сказочным и таинственным, и я расспрашивала бабушку, какой он, и её рассказы ещё больше разжигали моё желание увидеть лес. И вот мне сказали, что летом мы с бабушкой поедем а Чернолучье. Там бор, это сосновый лес.
И я ждала первых школьных летних каникул, а потом, со всё возраставшим нетерпением, — конца июня, когда мы наконец поедем.
1И вот — едем. Никогда ещё я не ездила так далеко — целых 40 километров! Поля, поля, берёзовые колки кое-где.. Но вот как-то вдруг «настал» лес, обступили со всех сторон высокие прямые рыжеватые стволы, запахло смолой, солнце спряталось за пологом сосновых крон, чтоб тут и там брызнуть в просветы, испещряя золотыми пятнами устланную палыми иглами землю.
Мы с бабушкой уходили далеко в лес, собирали грибы, лакомились лесной земляникой, малиной, — малинников тогда в Чернолучинском бору было не счесть, — бродили по лесу с раннего утра до полудня, а ближе к вечеру — на Иртыш. То первое лето в Чернолучье запомнилось на всю жизнь. Закрою глаза и вижу сквозь частокол стволов сияющую поляну с ярко-зелёной травой, вот она ближе, ближе, и блестят, покачиваясь над высокими травами, наполненные светом пурпурные фонарики — цветы саранки, бабушка называла их царскими кудрями. Вот рыжее пятно на краю поляны вздрогнуло, и я вижу замершую при нашем приближении косулю, прыжок — и она скрылась в чаще. Местами лес густел, становилось сумрачно, и я пугалась — найдём ли дорогу, но бабушка шла уверенно, успокаивала — скоро опушка, и всегда оказывалась права — вот и берёзы у края бора, и открылись взгляду дали.
В третьем классе я попала в городскую больницу, в одной палате со мной лежала девочка из города, Галя Кураксина, мы с ней подружились, рассказывали друг другу о доме, куда обе, конечно, хотели как можно скорее вернуться, она мне — о соцгородке, я ей — о Сибаке;
— А лес у вас есть? — спросила она почти сразу.
— Нет, но у нас парк и роща недалеко.
— Ааа, протянула она огорчённо, — а я думала, там лес.
После больницы мы писали друг другу открытки, я звала её в гости, она — меня, но только следующим летом она наконец в первый раз приехала, и не одна, а с подружкой, и как же им понравилось в Сибаке!
— Да это же настоящий лес! — радовались они березняку и сосенкам в парке, и для меня было огромной радостью показывать им любимые мои места.
Они рассказали, как в поисках леса ездили на станцию Куломзинскую, как там пришлось прыгать из притормозившей передачи (так в ту пору называли пригородные поезда), потому что на станции она не остановилась, как долго не могли выбраться из паутины запасных путей и каких-то длинных сараев и как, наконец, добрались до лесочка, «но он был маленький, истоптанный, не такой хороший, как ваш лес».
Рощу «бывшей булатовской дачи», хорошо знакомую с самого раннего детства, и прилегающий к ней березняк, который тянулся до СибНИИЗхоза, я исходила вдоль и поперёк, знала там каждую тропинку и каждый овражек, особенно хорошо знакомой была дорога в СИБНИИзхоз, которой часто провожала своих одноклассниц.
Особенно помнится тот березняк весной, когда распускалась сон-трава (мы называли эти цветы подснежниками), и в сентябре, в золотые дни бабьего лета, когда лес был торжествен и тих, будто замирал, вспоминая лето, перед тем, как надолго погрузиться в зимний сон.
Мы с подругами не раз уезжали ранним утром через поля к дальним колкам, обшаривали их в надежде наполнить корзину грибами, но возвращались обычно не более чем с полкорзиной сыроежек и несколькими подберёзовиками, такое и на Булатовской даче можно было собрать.
А вот в Чернолучье осенью так и не удалось ни разу побывать, а так хотелось, особенно с тех пор, как встретили мы с бабушкой на опушке чернолучинского леса пожилую местную собирательницу грибов, она возвращалась в деревню с большущей полной корзиной, и в ответ на моё восхищённое восклицание сказала:
— Да разве ж это грибы? Это маслята, да обабков немного, а вы осенью приезжайте, вот тогда будут грибы!
В последний мой сентябрь в Сибаке заехала однажды на велосипеде довольно далеко по Красноярскому тракту, примериваясь: а хватит ли сил добраться до Чернолучья и в тот же день вернуться? Нет, не хватит: часа за полтора самой быстрой езды, на какую способна, и полпути не проехала и устала до упаду, с трудом дотащилась по меже через поле до крохотного колка и там растянулась в траве; сквозь золотой подвижный узор что-то ласково шепчущих листьев сияло голубое небо, стрекотали кузнечики, чуть слышно шелестели сухие травы и поблескивали тут и там в воздухе серебряные паутинки. Долго приближалось со стороны Чернолучья неровное рычание мотора, потом, протарахтев совсем близко, машина стала удаляться, и звук мотора понемногу стих, и стало слышнее, чтО говорят берёзы.
Наконец я набралась сил, чтобы отправиться в обратный путь, но едва повернула голову — увидела в двух шагах от себя в траве крупный ядрёный подберёзовик, а рядом другой, третий... тот колок щедро одарил меня на прощанье.
Как много лесов разных перевидала я с тех пор — и ленточные боры Прииртышья, и Приобские, и тайгу под Томском и под Хабаровском, и прикамские леса и подмосковные, и крымские, и теперь вот — леса Новой Англии и Катскильских гор, но никакое из «лесных воспоминаний» не имеет той притягательной силы, никуда так не тянет в осенние дни, как к берёзам Западной Сибири.
Вообще-то берёзы не редкость в Новой Англии, мало того, кое-кто тут считает их самым что ни на есть местным деревом. Однажды меня попросили перевести на русский письмо пожилой американки, разыскавшей своих родственников в Белоруссии и вступившей с ними в переписку, она писала: «На фотографии, которую вы мне прислали, я разглядела рядом с домом берёзы, удивилась, — я думала, что это типичное дерево Северной Америки и нигде больше не растёт».

Но здесь чаще всего в диких лесных массивах встречается берёза серая. Обычно это мелкое деревце, часто о двух-трёх стволах. Ещё — берёза малорослая, совсем уж кустарник, а не дерево; в лесопарках и возле домов среди подсаженного каких только видов берёз не встретишь — и белоснежная бумажная берёза, и золотистая жёлтая, и похожая на иву какая-то ультраплакучая , и чёрная речная, — но вот царицу западно-сибирских просторов берёзу повислую (betula pendula, по-английски она называется серебряной, silver birch) встречала редко.
А шум берёзовых листьев — серой, пушистой ли — различаю в шуме смешанного леса издалека.

Индейское лето — аналог бабьего, но наступает позже, в октябре, и длится дольше. Первые аккорды жёлтого в зелёной массе листвы принадлежат ясеням, потом начинают пламенеть клёны, их осенний убор отличается необыкновенной яркостью и разные виды (а их много) желтеют и краснеют в разное время, так что «выступление» клёнов длится недели три по крайней мере, и прежде чем облетят самые поздние клёны, начинают рыжеть дубы, а последними — когда уже почти все другие деревья стоят голыми, кроме дубов, — своим золотом, не похожим ни на чьё другое, предложат наконец любоваться буки и их родственники.

Среди самых поздних, чуть ли не до декабря не теряющих осеннего убранства, — лиственницы, их встречала не часто, но зато какие: могучие, высокие, с особенным каким-то тёплым оттенком жёлтого хвои. Ещё одной неожиданностью было для меня обнаружение в ноябрьском почти что голом уже лесу цветущего мелкими жёлтыми цветами дерева — это цвёл гамамелис вирджинский. И особую прелесть осеннему великолепию придаёт то, что окрестности Бостона богаты озёрами и прудами, готовыми служить зеркалами лесному своему обрамлению. Хороши также покрытые нехоженым лесом холмы-друмлины среди необозримых солёных болот, заросших тростником и кое-где ярко синеющих в прилив, когда русла ручьёв наполняются океанской водой...

Но... «нету слонёнка в лесу у меня», серебряной берёзы повислой.
Фото:автора
Яндекс.Директ ВОмске
13.01.2025
Вы довольны организацией движения транспорта в связи с ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ?
Уже проголосовало 44 человека
06.07.2023
Довольны ли вы транспортной реформой?
Уже проголосовало 189 человек
Самое читаемое
Выбор редакции
43603 февраля 2026
386731516
Родилась в 1940 году в Омске.
Училась в школе 18 города Омска. В 1955 году переехала с родителями в Новосибирск. В 1959 году поступила во вновь открывшийся Новосибирский государственный университет (НГУ).
По окончании университета работала в Институте органической химии и Институте катализа СоАН СССР, а также в редакциях издательства СОАН СССР. С 1990 года работала в Лаборатории молекулярной биологии Медицинского центра Университета Массачусетса.
В настоящее время — на пенсии, живет в городе Линне, недалеко от Бостона (США).
Записи автора
218309 мая 2018
186326 декабря 2017
265307 октября 2017
3178328 августа 2017
256524 августа 2017
280512 августа 2017
303510 августа 2017
288205 августа 2017
— Психолог
— депутат Государственной Думы
— Коуч, психолог
Яндекс.Директ ВОмске



















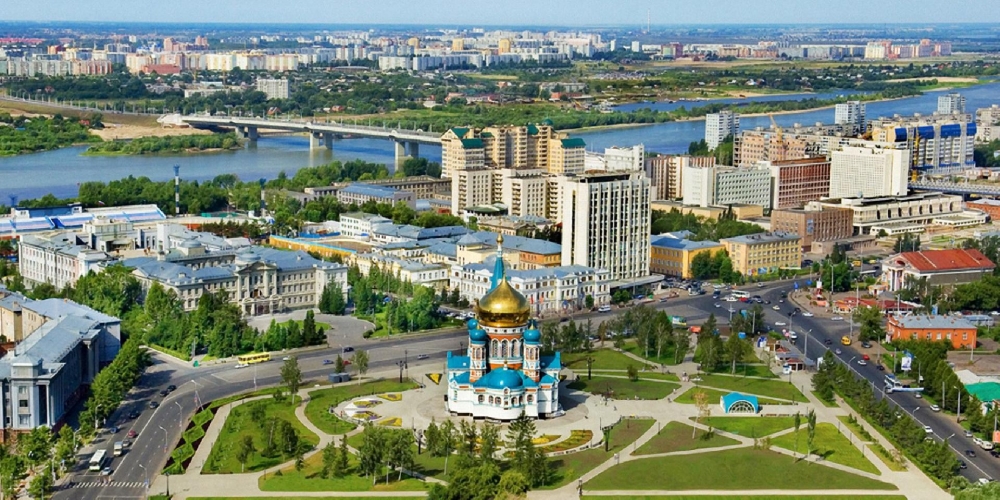










Комментарии