
НГУ (часть 2)
Вспоминая молодость, легко впасть в умиление, дать волю ностальгии, и не раз случалось услышать, что, дескать, нынешний городок и университет – гораздо более заурядное место, чем было в наше время; именно начало – звёздный час городка, дальнейшее – серость. Вот с этим не соглашусь...
280412 августа 2017
Математику нам, химикам (помнится, вместе с геологами?), читал наш декан Борис Осипович Солоноуц, и это был очень хороший курс, добротный, надёжный. Борис Осипович прекрасно чувствовал аудиторию, никогда не терял связи с нею, и только убедившись, что основное хотя бы частью слушателей понято, переходил к более сложным материям.

Ему удавалось быть понятым без снижения, открывая по-настоящему заинтересовавшимся дальние горизонты, но не уводя поспешно двух-трёх энтузиастов туда, куда остальные не имели возможности последовать, – а это случалось с некоторыми нашими лекторами, если не с большинством. Бывали и такие, кто полностью «отрывался», так что и одного-двух понявших не находилось. Особенно печально запомнился курс теории растворов, читанный Михайловым, его, кажется, зачастую вообще никто не понимал, он это чувствовал с мучительной остротой, в голосе звучали напряжённо-просительные интонации, он с облегчением отворачивался к доске, чтоб исписать её формулами, долго-долго писал, видимо оттягивая тот момент, когда придётся встретиться с пустыми недоумевающими взглядами слушателей, – и с каким отчаянием всматривался он в конце лекции в лица, надеясь углядеть хоть проблеск понимания. Очень его вспомнила лет через шесть, когда один семестр читала небольшой группе студентов спецкурс физико-химии полимеров, конформации макромолекул... хотя сходство ограничивается эмоциями лектора, ситуация была другая: у Михайлова дело было в совершенной неподготовленности студентов к слушанию такого курса, тогда как я слишком скоропостижно взялась читать нечто из области, в которой только начинала осваиваться... но опять я забегаю вперёд.
Солоноуц много времени проводил в общежитии, заглядывая то в одну, то в другую комнату, вступая в самые разные разговоры. Запомнила один: Борис Осипович спрашивает кого-то, как представляет он свою будущую работу, ответ: Институт ядерной физики, теоретическая физика. И второй и третий тоже. «Ну вы же понимаете, наверное, что всем не придётся, только нескольким... есть у кого-нибудь запасные варианты, как представляете своё будущее, если не попадёте в число этих нескольких?» Вариантов ни у кого из спрошенных нет, это и только это…
У химиков не было столь всеми предпочитаемой области, интересы распределялись более равномерно и на первом курсе, тем более в первом семестре, у большинства ещё не определились. Всё заслоняла предстоящая сессия. У меня случались приступы паники по поводу недопонятого в физике, подходила послушать тех, кто объясняет, – и с изумлением обнаружила, что некоторые из них и сами не понимают совершенно того, что пытаются объяснить. Вскоре и сама попала в объясняющие. По-своему это было интересно – попробовать найти слова для только что с трудом понятого. Помню одну прогулку по ночному заснеженному городку с Горой, которая заявила, что не может оставаться в университете, не поняв, что такое спин. Задача состояла в том, чтобы объяснить, что «наглядное» представление, которого она ищет, невозможно и что физика может существовать и иметь смысл без таких представлений... дискуссия с уходом в философию. Я с ней плохо справилась, меня завело в тупик сочетание у Горы потребности полной наглядности, вписывания в одну усвоенную схему со способностью легко обобщать до философских категорий. Вернулись в общежитие совсем поздно, продрогшие до костей, но по крайней мере не бросать курса я её убедила.
Спустя много лет случилось выслушать очень разные мнения сокурсников и выпускников второго – третьего набора об особенностях и ценности нашего образования – от восторженного (уникальное, неповторимое, феерическое и результативное) до крайне негативного, в последнем случае говорилось даже, что нас искалечили, отбили способность к серьёзным систематическим занятиям, не дали последовательной прочной основы знаниям. Насчёт уникальности – верно, пожалуй верно и то, что с нами, химиками, немного перемудрили тогда и значительная часть прочитанного нам осталась неполноценно воспринятой большинством... Насколько я знаю, программы для химиков вскоре сократили, следующим курсам не читали вариационное исчисление, теорию функций комплексного переменного, тензорный анализ, теорию вероятностей, теоретическую физику (последнее особенно запомнилось, лекции Валерия Леонидовича Покровского были замечательные, но понимали его с трудом) в том объёме, что нам, – и, наверное, это было разумно. (У физиков, кажется, дела обстояли лучше, КПД был выше). И во всяком случае мы, наш курс, не полностью дискредитировали такой способ образования – бросать в воду не умеющих плавать.
Я вот спустя четверть века после окончания универа попала в сильно напоминающую тот первый университетский год ситуацию – начала работать в лаборатории молекулярной биологии после более чем двадцатилетнего перерыва работы в области и вообще в лаборатории, причём в такой области, прогресс в которой был фантастическим, двадцать лет назад и вообразить ничего подобного нельзя было, только в самых смелых мечтах оно могло померещиться, – и времени понять всё систематически, привязав к прежним знаниям, у меня не было, как тогда – прыжок в неизвестное. Будь у меня, скажем, Сибстрин за плечами и не будь университета с опытом ныряния в новое с полным отрывом от известного (тогда речь, конечно, не шла бы о молекулярной биологии, но дело не в этом), с задачей такой сложности – освоиться в краткий срок в столь новой области – я бы наверняка не справилась.
Борис Осипович не был единственным из наших преподавателей, кто в общении с нами не ограничивался часами занятий. Помню спонтанные лекции Шульмана, где-нибудь в школьном коридоре, как возникал разговор – трудно себе представить, но вот уже немалая толпа народа слушает, что говорит он о классическом искусстве; продолжение – у него дома вечером. Или лекции Ю.Б. Румера... но об этом недавно писали те, кто лучше меня его помнит… помнил.

Я чаще других уезжала в город: ездила на вечера в Сибстрин, встречалась с прежними друзьями; удивительно, но тот зимний сезон – единственный в моей жизни, когда не пропустила ни одного абонементного концерта в филармонии. Ездить приходилось чаще всего на попутных машинах, довезут до Матвеевки или Нижней Ельцовки, а дальше голосуй снова, пока не доберёшься до остановки первого городского автобуса на Большевистской. Иногда очень долго приходилось стоять на шоссе, в метель или мороз, зато каким праздничным сиянием встречал театральный подъезд, концертный зал! А возвращения поздно вечером – последним бердским автобусом, полупустым, хорошо если водитель согласится остановиться там, где выходит из леса на шоссе дорога – будущая Университетская улица, а то так и от перекрёстка лесом, минут сорок быстрой ходьбы лесной тропинкой, высоченные заснеженные сосны торжественно замерли в тишине, кое-где белеет дугою согнутый берёзовый ствол... помнится особенно одна лунная ночь, среднеморозная, недавно выпавший снег сиял бриллиантами в лунном свете; спешишь – бежишь, холодно, к концу пути не на шутку продрогнешь – и вот наконец различимы сквозь частокол сосновых стволов окна домов, бессонное наше общежитие. Все окна светятся! Там тепло, горячий крепкий чай, сразу с ходу, не отогревшись ещё, попадаешь в разговор.
Разговоры, разговоры... Я уже писала, как было захватывающе интересно узнавать и понимать новых друзей. Рассказы их о себе, иногда о совершенно отличном от моего жизненном опыте врезались в память так ярко, что как бы стали частью пережитого мною самой. Рассказы Тани Вильгельми, например.
Но говорить здесь об этом трудно. Помню с ярчайшей точностью уйму разных мелочей из первых лет общежития на Морском – Обводной, но воспроизвести их здесь что-то мешает. Напишешь что-то – и тут же воображаешь того, о ком написала, читающим это и недоумевающим: во-первых, возможно, он этого не помнит, а во-вторых, даже если помнит, очень может быть досадно: ну неужели она такой вот чепухой запомнила меня и ничем больше?


Одно дело в разговоре нескольких встретившихся: а помнишь... а помнишь...
И совсем другое, когда, может быть, прочтёт кто-то ещё, тогда писать, называя имена, следует не обо всём таком, ну разве что очень характерное что-нибудь для данного человека или общей атмосферы… но тут же и усомнишься, а так ли уж оно характерно? Избежать этого можно только говоря преимущественно о себе или обобщая, не называя имён, и это несколько парадоксально, потому что пишу-то о том времени, когда неотделимость я от мы очень сильно чувствовалась, как редко случалось в последующей жизни, как и острота чувства соседних я.
Первый год в городке, яркость и новизна всего переживаемого незабываемы, но отыскать в памяти что-то такое, что сделало бы эти ощущения понятными читателю более, чем мы, молодому, – трудно, надо, наверное, хорошо знать ту жизнь, из которой мы вышли, чтобы почувствовать это.




Вот вспомнился один эпизод из множества.
Весной был у кого-то из наших день рождения, а я уезжала в город.
– Ну хоть на второй день дня рождения, в воскресенье, приезжай, отмечать будем у Н (один из наших молодых преподавателей), его однокомнатная квартира на втором этаже в таком-то доме (их всего несколько в городке), соберёмся у него снова утром, но вряд ли раньше 11-ти все соберутся; если погода будет хорошая, на Зырянку прогуляемся, потом и ещё кто-то подъедет, продолжим там же, у Н.
Приезжаю в одиннадцатом часу утра и сразу в ту квартиру. Вхожу – никого (двери в городке не запирались, у многих и замков не было, как у нас в первой нашей квартире, где жили три семьи), видно, что только что пили кофе, большая джезва с остатками кофе на столе, а чашки вымыты. Неужели уже в лес ушли? Подождала немного – не подойдёт ли кто; на столике –пачка недавних фото, у базы Алика Тульского сняты лыжники, знакомые всё лица, но хозяина квартиры что-то не видно среди них... а, вот и он на одной; ещё рядом большая печка старых фотографий, там незнакомые лица, южный город какой-то, море; хорошие фотки… Книги интересные… но никто не появляется... пошла на Зырянку; – день был пасмурный, иногда начинало слегка моросить, но тепло, хотя ещё снег в ложбинках, оврагах, оттуда тянет холодом и воркует под снегом ручей; мокрые стволы берёз и сосен как-то особенно выпуклы, живы, совсем не такие, какими были недавно зимой – застывшие, окоченевшие, с где-то глубоко под неживой корой затаившейся жизнью, а теперь, кажется, можно, прислушавшись, различить каким-то образом, как тянется сразу под корою влага из земли к веткам; пахнет талым снегом, прелым листом, весной, синички тенькают во-всю. На Зырянке кто-то костёр разжёг, но не наши, наших не видели, дальше, видно, ушли.
Возвращаюсь в квартиру – никого; наверное, теперь уж скоро вернутся; стала разглядывать книги – и зачиталась (помню, что было там незнакомое мне издание Блока и старые журналы, а в одном из них – листок из школьной тетради со стихотворением, несколько слов и даже строк в нём исправлены, угловатый твёрдый почерк), вот уж и сумерки; зажгла свет, сварила кофе, включила музыку – пластинок тоже много замечательных и проигрыватель хороший, ещё часа два ждала, наконец пошла в общежитие – и там никого из наших. Из соседних домов, из нескольких окон музыка, смех... Наконец, совсем поздно, вваливаются весёлой толпой в комнату:
– Ну что ж ты днём не приехала, так жаль!
– Да я вас с утра ждала у Н, где вы были?
– Весь день у него и были.
Оказалось, не то дом, не то подъезд был неверно мне назван.
Захотелось было узнать, в чьём это доме провела я день, но потом передумала расспрашивать – показалось, что без имени – лучше.
Читатель (если таковой вообще предстоит), возможно, спросит – а что тут такого особенного, городковского, кроме разве того известного факта, что дверей не затворяли... а не знаю, почему-то для меня в том влажном весеннем дне очень много сосредоточилось.. самая-то суть воспоминания в слова, кажется, вообще не попала, только для меня включается, но стирать не буду, оставлю – много уж такого поубирала, но вдруг найдётся кто-нибудь, для кого оно тоже послужит включателем.
Лес сразу за порогом манил, тянул в себя.. Тогда ещё не были застроены дачами берега Зырянки, не было полосы гаражей и ближних дач, которая вскоре отгородила задворки институтов от леса. На уроках физкультуры, встав на лыжи у крыльца школы, уходили на Зырянку, на тот склон в ботсаду, который долго потом оставался главной катальной горкой всего детского населения городка.
Помню, что после физкультурной пары несколько раз не могла заставить себя вернуться – поворачивала в другую сторону, уходила на весь день по ненакатанным лыжням, ведущим к Речкуновке или за Шадриху. Какая красота была там всюду, какой простор!
Один раз (это уже в марте, в тёплый солнечный день) зашла далеко, заблудилась и вышла к знакомому месту на Шадрихе уже при низком солнце, а оттуда в сумерках и – в конце пути – в полной темноте добралась наконец к общежитию, и видела в тот раз волков у опушки через небольшое поле.

Не терпелось дождаться весны, увидеть всё это – берёзы, осины, пологие склоны долин – зазеленевшим. И как же хорошо там оказалось весной и в начале лета, превзойдя все ожидания! Склоны – ярко-оранжевые от цветущих огоньков, а кое-где – серебристо-белые от колышущихся венчиков ветрениц, струящегося под ветерком ковыля. В мае несколько раз, засидевшись за разговором или чтением до утренней зари, не шла спать, а уходила в лес, к Зырянке. Однажды видела в лучах восходящего солнца розовую цветущую черёмуху. Подойти к ней не было времени – она росла на другой стороне глубокого оврага – а потом, сколько ни пыталась, так и не смогла разыскать то место и тот великолепный черёмуховый куст, и так и верю, что это действительно цвела розовая черёмуха, а не обычную белую окрасила заря, не эффект освещения, хотя сколько ни расспрашивала хорошо знающих окрестности людей, о розовой черёмухе никто ничего сказать не мог (хотя такое чудо существует на свете, слышала от ботаников). Теперь-то, и давно уже, там всё застроено.

А летом, во время сессии и позже, когда проходили практику на оловозаводе, обычными стали прогулки на море, ночные купанья... Около полуночи кто-нибудь заходил в комнату с предложением пойти искупаться, быстро собирались, шли бором в кромешной тьме, с фонариком, – и вот чаща расступается, тускло блестит водяная гладь; с разбега в воду, плаваем, окликая друг друга, иногда разводим костерок на песке. Коротки июньские ночи, возвращались, когда брезжил рассвет.
Ещё помню, как с балкончика нашего этажа на рассвете можно было увидеть лосиху с лосёнком совсем близко, у края сосновой рощицы.
А по вечерам там играл наш университетский оркестр, танцевали.

После практики – студенческий лагерь на берегу Берди, сильно подпёртой морем (уже не река, какой помнила её, а – морской залив, море – ровесник нашего универа, всего-то годком постарше), палатки под соснами на высоком узком мысу, крутой спуск к воде и – лодки! их было много, всем хватало; помню первую прогулку на лодке с Таней и Надей в пасмурный день, но потом я уходила на лодке одна – слишком много было других занятий и охотников провести на реке весь день не находилось, а я не могла нарадоваться этому подарку – лодке, по крайней мере полдня проводила на воде, уплывая вверх в сторону Искитима, а иногда и весь день, пропустив обед. И помню наш лагерь вечером, на закате, как виден он с лодки – кораблём многомачтовым, готовым к отплытию; далеко по воде доносятся голоса, музыка, смех, стук пинг-понгового мячика; сложить вёсла, лечь на дно, смотреть в небо, где появляются первые звёзды, прислушиваясь к звукам оттуда, с высокого мыса, зная, что чуть погодя буду там, со всеми.
Но настоящее исполнение ожиданий началось с институтскими днями: сначала два дня в неделю мы проводили в лабораториях, потом больше, каждый был подключён к исследовательской работе всерьёз. Это была совсем другая жизнь, чем учебная студенческая. Я начинала в Институте кинетики у Владислава Владиславовича Воеводского,

помню тогдашний ЭПР спектрометр, семинары в коттедже у ВВ; у него тогда жил кто-то из сотрудников, недавно приехавших из Москвы и не получивших ещё жилья, от этого, но не только, чем-то похоже было на общежитие, несмотря на невиданную современную комфортабельность коттеджа. Именно там, на этих семинарах, впервые довелось мне быть свидетельницей «думанья вместе», когда понимают друг друга в опережение мысли собеседника и вместе додумываются до чего-то такого, до чего каждый в одиночку, возможно, и не смог бы «дотянуться». Некое удивительное, редкостное "резонансное" состояние нескольких одновременно вслух думающих людей. Такое случалось и на семинарах у Дмитрия Георгиевича Кнорре, в лабораторию которого я перешла в конце четвёртого курса; не последнюю роль в этом решении сыграла лекция академика Тамма, где я впервые услышала о недавнем открытии генетического кода.

Дмитрий Георгиевич читал нам физхимию, его лекции я хорошо помню, как самое, пожалуй, важное, центральное для меня.
Книжка Эммануэля и Кнорре тогда ещё не была издана, и нелегко было разыскать, что читать, следуя за лекциями (что я уже привыкла делать, но вечно отставала и в конце семестра нередко переставала ходить на лекции, зачитавшись чем-то из начала курса).
Конспекты ходили по рукам; мои не ценились – слишком краткие.
Кнорре предложил нам издать конспекты, каждому из желающих была предложена лекция. Мне достались целых две по моему выбору, и я переворошила все монографии, какие только смогла найти в библиотеках, писать было интересно. Когда всё уже написала и отдала Кнорре, до меня дошёл подробный, добросовестно записанный прилежной студенткой конспект (он переходил из рук в руки и затерялся было), и я смутилась: поняла, как сильно отошла я от прочитанного лектором и как много «напихала» в лекцию такого, чего там и в помине не было, не удивилась бы, если б была осуждена за самонадеянность, почти наглость. Но Д.Г. мой «конспект» понравился и даже очень.
Моим руководителем должен был быть Эрик Малыгин, но он был в отъезде(?) и как-то так получилось, что со всеми вопросами я обращалась к Лёве Сандахчиеву. Они тогда с Грачёвым на пару работали чуть ли не круглосуточно.
Остальные занятия как-то сразу отошли на второй план. Впрочем, были исключения., например, курс лекций по физико-химии биополимеров, прочитанный нам О.Б. Птицыным, приехавшим специально для этого из Ленинграда, за неполные две недели; все прочие лекции и занятия и даже работа в лаборатории были для нас на это время отменены, он читал по 5-6 часов подряд, пока не терял голоса, потом после перерыва было что-то вроде многочасового семинара с ним, потом день на подготовку (с консультацией, занявшей почти полдня) и экзамен.
Словом, полное погружение в предмет. Пожалуй, самый интересный из всех спецкурсов получился. Спецкурсов было много, мы могли выбирать из них сами.
Но этот не менее яркий и важный, чем первый курс, кусок жизни не поддаётся пересказу без экскурсов в молекулярную биологию, что никак уж не поместится в данные заметки. В то время эта невероятно быстро развивающаяся область химии – биологии даже и названия устоявшегося не имела, отдел Кнорре был в составе института органической химии. Целая лаборатория – одна из нескольких в отделе – работала над тем, чтобы синтезировать в растворе нужный коротенький олигонуклеотид, достижением считалось сколько-нибудь существенное обогащение получающейся смеси изомеров единственно нужным. А когда я после двадцатилетнего перерыва вернулась в область, синтезы такие осуществлялись лаборантом с помощью серийного приборчика, и не 3 -5, а двадцать нуклеотидов послушно выстраивались в цепочку по предписаниям заказчика. Помню, в какое восхищение привели когда-то планы Сандахчиева, ради которых он денно и нощно добывал свои ферменты, но казалось всё это фантастично, а через двадцать лет было осуществлено, взято на вооружение молекулярными биолами как самый повседневный инструмент…
Наверное, надо оторваться, потерять на время всякую связь с быстро продвигающимся фронтом человеческого знания, чтобы почувствовать эту бешеную скорость его расширения... Ведь в следующие 18 лет она отнюдь не снизилась, но я уже не испытываю подобного головокружения – как в научно-фантастический роман попасть – когда сравниваю 2008 с 1990, а не 1990 с 1969-м, хотя расширение это продолжалось, и даже с ускорением; но я была уже снова внутри мчащегося в неизвестное корабля. И, наверное, уже просто невозможно то странное «космическое» чувство, когда, раздобыв наконец с неимоверными трудностями последнюю в цепочке статью, убеждаешься окончательно, что ничего нового в ней для тебя нет, что ты уже знаешь всё, что вообще человечеству известно об этой вот частности из жизни нуклеиновых кислот. То есть, конечно, понимаешь, что существует ещё не опубликованное, но знаешь и все адреса, откуда может появиться что-либо существенное, да и в твоей пробирке, возможно, небезынтересное добавление… Сам процесс добычи информации стал гораздо более лёгким, в несколько минут, парой десятков щелчков мышки можно собрать больше, чем, бывало, за месяц безвылазного копания в библиотеках, – но фронт расширился, расползся настолько, что никогда не знаешь, действительно ли это фронт и не копаешься ли ты в чём-то маловажном, что давно уже кем-то понято..
И ещё несколько слов в заключение.
Вспоминая молодость, легко впасть в умиление, дать волю ностальгии, и не раз и уже давно случалось услышать, что, дескать, нынешний (то есть лет тридцать тому назад нынешний) городок и университет – гораздо более заурядное место, чем было в наше время, что уже через несколько лет после начала стало совсем не то; именно начало – звёздный час городка, дальнейшее – серость. Вот с этим не соглашусь. Даже если не очень внимательно проследить за старшим поколением детей, выросших в городке, видишь: они нередко начинали с того, что для нас было очень большим достижением, а для них – первым и вторым простым шагом. Может быть, они и есть самое большое наше достижение.
Примечание:
Фотографии не мои, моих студенческих сохранилось мало. Да и снимала я в те годы как никогда мало. Из славиной (моего мужа) коллекции сохранилось больше, в основном снятые Абрамом Виленским и Борей Ненашевым, возможно ещё Алёшей Большаковым, из них и здесь помещённые. Почти все есть в музее НГУ. Фото Кнорре, Воеводского из сети.
Оригинал в ЖЖ автора
Яндекс.Директ ВОмске
13.01.2025
Вы довольны организацией движения транспорта в связи с ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ?
Уже проголосовало 44 человека
06.07.2023
Довольны ли вы транспортной реформой?
Уже проголосовало 189 человек
Самое читаемое
Выбор редакции
43603 февраля 2026
386731516
Родилась в 1940 году в Омске.
Училась в школе 18 города Омска. В 1955 году переехала с родителями в Новосибирск. В 1959 году поступила во вновь открывшийся Новосибирский государственный университет (НГУ).
По окончании университета работала в Институте органической химии и Институте катализа СоАН СССР, а также в редакциях издательства СОАН СССР. С 1990 года работала в Лаборатории молекулярной биологии Медицинского центра Университета Массачусетса.
В настоящее время — на пенсии, живет в городе Линне, недалеко от Бостона (США).
Записи автора
218309 мая 2018
186226 декабря 2017
265207 октября 2017
4448406 сентября 2017
3178328 августа 2017
256524 августа 2017
303510 августа 2017
288205 августа 2017
— Психолог
— депутат Государственной Думы
— Коуч, психолог
Яндекс.Директ ВОмске



















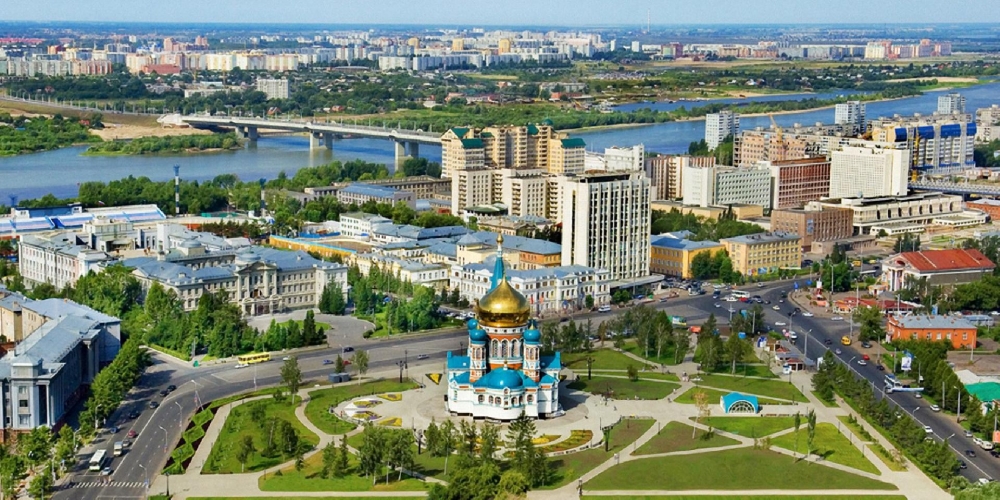










Комментарии